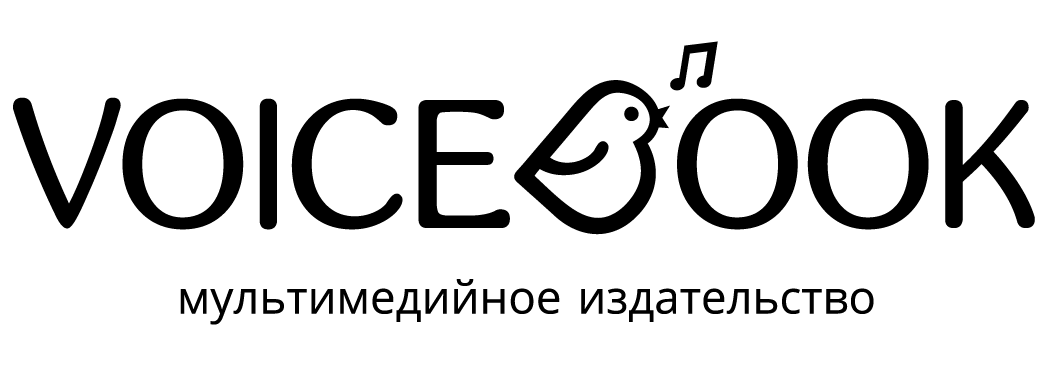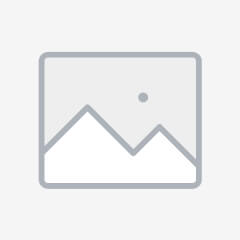Негде
Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Слово «негде» в пушкинской «Сказке о золотом петушке» открывает текст, задавая сказочный и условный тон повествования. В словаре языка Пушкина это слово зафиксировано как наречие, имеющее значение «в неопределённом, неизвестном месте», и отмечено как устаревшее уже в первой половине XIX века. В старорусском языке форма «негде» встречалась в значении и «нигде», и «где-то», но в пушкинском контексте оно выступает именно как формула начала сказки, по образцу народных сказов.
В XXI веке слово «негде» в таком значении практически не употребляется в разговорной речи. Оно осталось исключительно в книжных, детских и стилизованных текстах, а также как культурно-фольклорная метка: например, в детской литературе, рекламе, играющей на образах старины («Негде, в тридевятом царстве…» в описании товара или мероприятия). В живой речи у современных носителей слово чаще ассоциируется с другим значением («негде сидеть», «негде жить»), не имеющим отношения к пушкинскому употреблению.

Ратное дело
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Словосочетание «ратные дела» в пушкинском языке напрямую связано с воинской службой, походами и битвами. В словаре языка Пушкина слово «ратный» отмечено как поэтическое и книжное, происходящее от древнерусского «рать» — войско. В современном языке корень «рат-» сохранился в устойчивых сочетаниях вроде «ратный подвиг», «ратное дело», однако эти выражения считаются устаревшими или стилистически окрашенными.
Исторически слово использовалось и в законодательных текстах, и в летописях. В произведениях Пушкина «ратное дело» чаще связано с образом героя, который либо стремится к славе, либо, как царь Дадон, уходит от воинских забот с возрастом. В XXI веке выражение актуально преимущественно в торжественно-официальной речи, особенно в военных музеях, на памятных плитах, в фильмах, воспроизводящих дух старины.

Тридевятое царство
Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Сочетание «тридевятое царство» — одно из самых известных в русской сказочной традиции. В словаре языка Пушкина оно указано как постоянная фраза, не имеющая конкретного географического значения, но закреплённая за сказочным жанром. Корень «тридевятое» образован от «три» и «девять», подчёркивая недостижимую удалённость и фантастичность упоминаемого места.
В XXI веке эта формула сохранилась в детской литературе, сказках, а также в маркетинговых названиях («кафе в тридевятом царстве», «тур в тридевятое царство»). В разговорной речи иногда употребляется с юмористическим оттенком, например: «уехал в тридевятое царство» — уехал очень далеко.
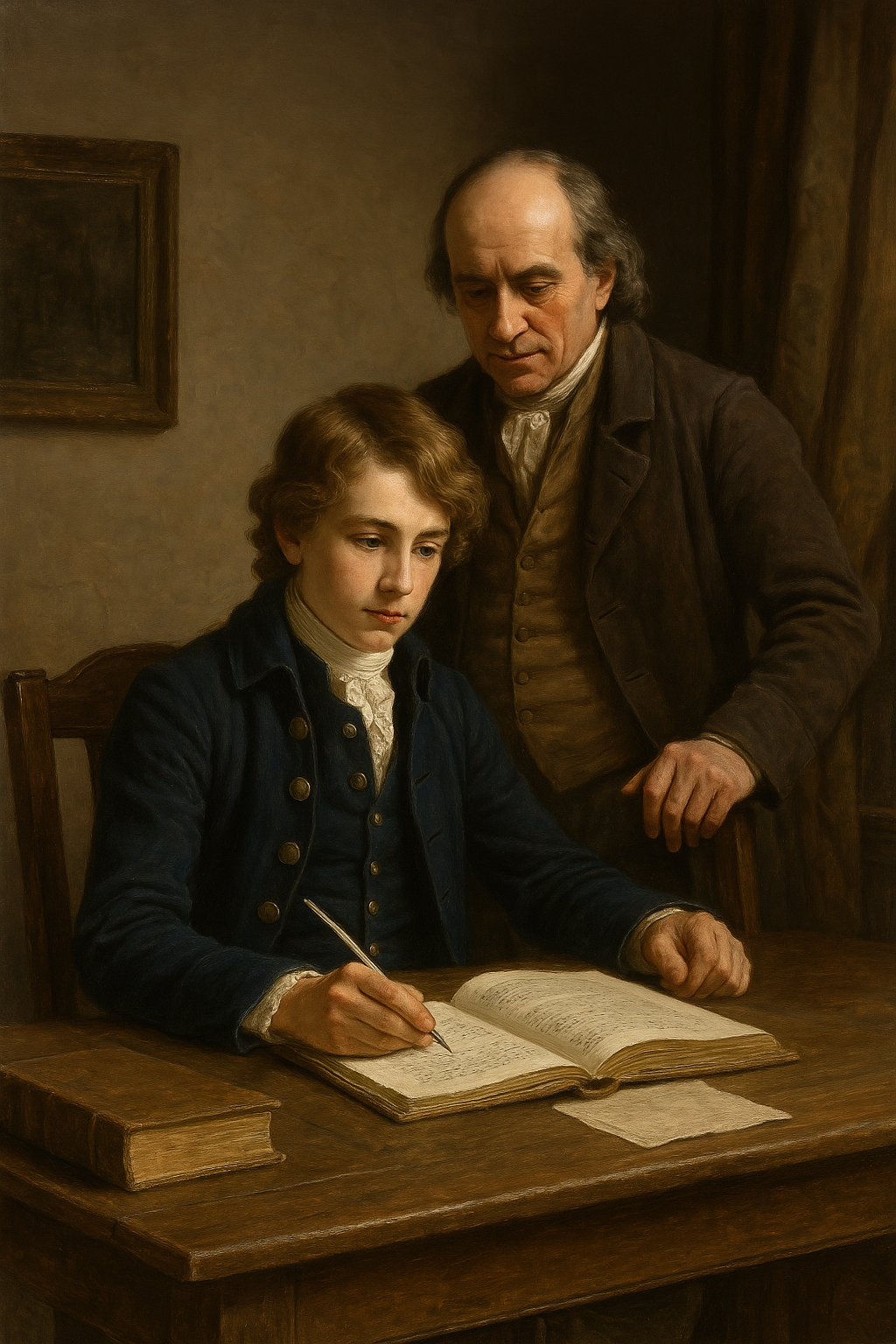
Смолоду
С молоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело.
Наречие «смолоду» в пушкинской фразе имеет значение «с молодых лет», «с юности». В словаре языка Пушкина оно отмечено как книжно-поэтическое, а в словаре Даля зафиксировано также в народной речи. В пушкинском тексте это слово создаёт ритмическое и интонационное соответствие сказочному стилю: «С молоду был грозен он…» напоминает о торжественно-эпическом рассказе.
В современной русской речи «смолоду» практически вытеснено формами «с молодых лет», «с юности». В официальных текстах, литературных публикациях слово сохраняет жизнь как архаизм или стилистически окрашенный элемент. Например: «С молоду занимаюсь искусством…» может быть употреблено в интервью или эссе для создания старомодного оттенка.
Наносить обиду
И соседям то и дело
Наносил обиды смело.
Выражение «наносить обиды» у Пушкина обозначает «причинять вред», «ущемлять», «доставлять неприятности». В словаре языка Пушкина зафиксировано как устойчивое словосочетание. В словаре Даля фраза «наносить обиду» также отмечена в юридической и литературной практике первой половины XIX века.
В XXI веке такая форма выражения практически не встречается в разговорной речи, заменяясь более современными: «обижать», «оскорблять», «унижать». В текстах высокой стилистики и в официальных речах («за нанесённые обиды») сочетание сохраняется как отсылка к традиционной и формально-архаической речи. В юридических документах чаще говорят о «причинении морального вреда», но для литературного эффекта может использоваться именно пушкинская формула.
Словообороты и словоформы из «Сказки о золотом петушке» дают современному читателю возможность прикоснуться к языку, в котором ещё сохранялись отголоски народно-поэтической и старорусской традиции. Несмотря на то, что такие слова, как «негде», «смолоду», «наносить обиды», утратили своё активное место в живом разговорном языке, в культурной памяти и в стилизованных текстах они продолжают функционировать как знаки русского литературного наследия. Пушкин, опираясь на такие формы, сумел соединить фольклорный стиль с личной авторской поэтикой, создав язык, который остаётся узнаваемым и спустя два века.