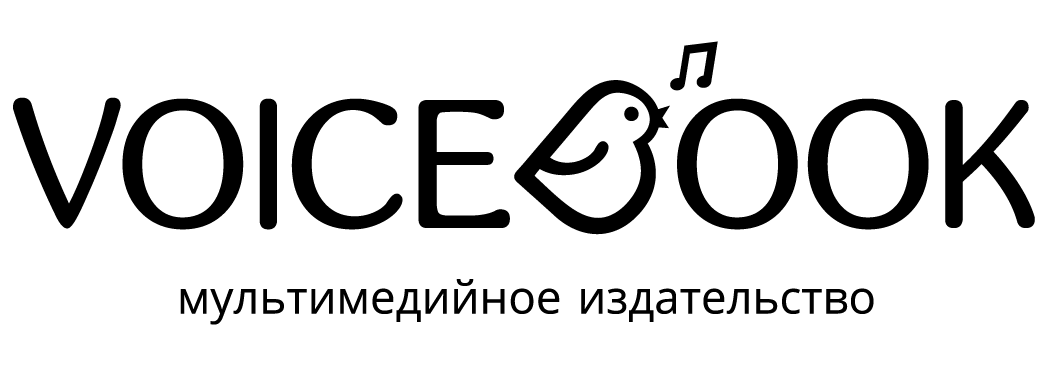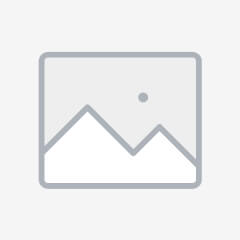«Инда» у Пушкина: поэтика живой речи и отголоски старины
Слово «инда» — редкое и почти забытое сегодня, когда-то было частью живой народной речи. В пушкинскую эпоху оно использовалось как наречие, придающее высказыванию эмоциональную силу. Оно значило примерно «даже», «уж», «вовсе», «прямо-таки». В устной речи это слово усиливало действие: «инда слёзы текли» — значит так сильно плакал, что слёзы лились ручьём, «инда не спал всю ночь» — совсем не спал, ни минуты.
Александр Сергеевич Пушкин очень тонко чувствовал народную речь. Он собирал пословицы, слушал живое слово, изучал старинные обороты. В его поэтике слова вроде «инда», «тридевятое», «во поле чистом», «диво дивное» работали не только как украшения, но как ключи к народному стилю, ритму, музыкальности. Хотя сам Пушкин редко использовал слово «инда» буквально, его тексты наполнены тем же дыханием живой речи, в которой это слово родилось.
Особенно ощутим этот язык в его сказках — «Сказке о царе Салтане», «Сказке о золотом петушке», «Сказке о мёртвой царевне». Там, где нужно создать ощущение сказочности, фольклора, глубины — пушкинская фраза звучит как из уст народа. Именно такие слова, как «инда», придают речи мягкость, песенность, напевность. Они не только описывают действие, но и окрашивают его эмоцией: то сдержанной грустью, то восторгом, то трагической простотой.
В полной мере слово «инда» звучит у современников Пушкина — особенно у Василия Жуковского, в его балладах. Он активно использовал народные интонации и лексику, чтобы передать сказочное, песенное, древнее настроение. В переводах и оригинальных стихах Жуковского «инда» помогает создать ритм и усилить эмоциональное напряжение — как в героических сценах, так и в лирических.
Исторически слово «инда» пришло из старославянского и древнерусского языков, было распространено в южных и среднерусских говорах. В народной традиции его употребляли в песнях, былинах, закличках. Это слово несло не только смысл, но и звучание — оно было частью живого, звучного, глубокого языка.
Сегодня слово «инда» почти не используется. Оно ушло из повседневной речи и сохранилось разве что в старинных текстах, фольклоре и литературе, стилизованной под старину. Иногда его можно услышать в театре, в исторических романах или поэтических опытах, где авторы сознательно возвращают к жизни забытые слова.
Тем не менее, «инда» остаётся напоминанием о богатстве и выразительности русского языка, о тех временах, когда слово не просто называло предмет или действие, а сразу выражало чувство, отношение, интонацию. В пушкинской поэзии, даже если оно не звучит буквально, оно присутствует — в ритме, в стиле, в душевной ясности народного слова.

Очи
Слово «очи» — одно из самых выразительных и поэтичных в русском языке. Оно означает глаза, но несёт в себе не просто анатомическое значение, а образ, наполненный эмоциональной, духовной и культурной глубиной. В пушкинскую эпоху, особенно в поэзии, «очи» использовалось как возвышенный, лирический синоним, способный передать чувство любви, тайны, боли или благоговения. Это слово имеет древнерусские и церковнославянские корни, где «очами» называли не только человеческий взгляд, но и «очи Господа», всевидящие, добрые, светлые.
Александр Сергеевич Пушкин не просто знал это слово — он тонко чувствовал его звучание и смысл. В его любовной лирике «очи» появляются как символ красоты и душевной силы. Хотя в окончательных редакциях некоторых стихотворений он может заменить это слово более нейтральным «глаза», в черновиках оно часто звучит — например, в ранней редакции стихотворения «Я вас любил» он пишет: «Я не хотел смущать прекрасных очей». Это подчёркивает деликатность чувства, уважение к образу любимой, подчёркивает поэтичность женского облика. Также слово «очи» связано у Пушкина с фольклором и сказочной речью, как в «Сказке о мёртвой царевне», где речь героя и героини наполнена народными выражениями, придающими тексту ритм и мелодичность.
Слово «очи» активно использовали и современники Пушкина — особенно Василий Жуковский, в балладах которого оно звучит как часть былинной интонации. В «Светлане» он пишет: «Ах! ужасны мне эти очи…» — подчёркивая тревогу, мистический страх. У Лермонтова и Баратынского «очи» тоже нередко становятся художественным средством для создания романтического или трагического эффекта.
С исторической точки зрения, слово «очи» происходит от слова «око» — «глаз». Во множественном числе — «очи». В церковных текстах и духовной поэзии оно имело особую значимость: «очи Господни на праведных», «очи твои — свет миру». Оно несло в себе не только телесное, но и духовное зрение — способность видеть истину, различать добро и зло. Через библейскую и фольклорную традицию «очи» перешли в художественную речь как слово высокое, наполненное уважением и внутренним светом.
В XXI веке слово «очи» практически исчезло из повседневного языка. Люди говорят просто: глаза. Однако в поэзии, в песнях, в старинных романсах слово «очи» продолжает звучать. Например, в романсах: «Очи чёрные, очи жгучие», «Очи синие, очи страстные» — оно служит символом не просто взгляда, а роковой силы, страсти, магнетизма. Иногда современные поэты используют это слово, чтобы подчеркнуть архаику, создать особое звучание строки или отдать дань поэтической традиции.

Белая зоря
«Белая зоря»: образ света в поэтике Пушкина и народной традиции
Выражение «белая зоря» — одно из самых лиричных в русской фольклорной и поэтической традиции. Оно обозначает утреннюю зарю, первые лучи света, появляющиеся перед восходом солнца. Эпитет «белая» придаёт образу особую мягкость, чистоту, тишину и ожидание. Это не просто природное явление — это символ начала, надежды, обновления и душевной ясности.
У Александра Сергеевича Пушкина этот образ звучит в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833), где он передаёт настроение ожидания и внутренней тревоги:
«Смотрит в поле, инда очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи…»
Здесь «с белой зори» — это устойчивый поэтический оборот, пришедший из народного языка. Он указывает не просто на раннее утро, но на весь долгий день томления, безнадежного ожидания и тоски. Именно такое использование зари делает её не просто элементом пейзажа, а отражением душевного состояния героини — царицы, тоскующей по мужу.
Подобные выражения с тем же смыслом широко использовались в народных песнях, сказаниях и обрядах:
«Ой, ты, зоренька-звезда, белолицая моя…»
«Встану я по белой зореньке…»
В этих строках зоря — это время женской судьбы, пора молитвы, прощания, начала. Белая зоря часто ассоциировалась с образом девушки, с чистотой любви, с пробуждением мира и души.
Современники Пушкина — Василий Жуковский, Николай Языков, Алексей Кольцов — активно использовали этот образ в балладах и песенной поэзии. У Жуковского заря нередко выступает как символ утешения, милости и возвращения к жизни, как в «Светлане» или в переводных балладах.
Фольклорная природа зари проявляется и в её одушевлённости: в народной традиции заря могла «вставать», «играть», «приходить», «прогонять тьму». Она воспринималась как небесная дева, сопровождающая солнце или предваряющая день. Белая заря — это не просто время, а поэтический персонаж, в котором заключена и природная цикличность, и духовное просветление.
В современном языке выражение «белая зоря» почти исчезло из живой речи, но продолжает существовать:
в народной песне и её авторских интерпретациях;
в поэзии, особенно стилизованной под фольклор;
в названиях художественных произведений, фестивалей, музыкальных групп.
В повседневной речи осталось только слово «заря», как синоним рассвета. При этом выражение «белая зоря» воспринимается как архаичное, но очень поэтичное — оно до сих пор способно вызывать в сознании образы тихого света, первых минут пробуждения, ожидания и внутренней чистоты.

Белёшенька
Слово «белёшенька» — уменьшительно-ласкательная форма от прилагательного «белая», характерная для народной речи и фольклорной поэтики. В русском языке такие формы образуются с помощью суффикса -ешеньк- для передачи особенно мягкого, доброго, ласкового оттенка, часто с интонацией умиления или поэтической образности.
У Александра Сергеевича Пушкина это слово встречается в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833) в следующей строке:
«Смотрит в поле, инда очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!
Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белёшенька земля.»
— А. С. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне», 1833
Здесь Пушкин использует форму «белёшенька» в народно-сказочном стиле. Это слово придаёт описанию нежность, певучесть и фольклорный колорит. Фраза «вся белёшенька земля» показывает не просто снег, а целый мир, укрытый чистым, лёгким, пушистым белым покрывалом. Благодаря уменьшительно-ласкательной форме создаётся ощущение уюта, мягкости, несмотря на зимнюю стужу. Это характерно для пушкинской работы со словом: он стремится соединить простоту народного языка с поэтическим изяществом.
Подобные формы активно использовались и у современников Пушкина. У Василия Жуковского, особенно в переводных балладах и песнях, встречаются формы типа «чистёшенько», «тихёшенько», «светёшенький», создающие фольклорную стилизацию. Эти слова отражают стремление поэтов пушкинской эпохи сохранить и развить поэтику народной песни в книжной литературе.
Исторически формы с суффиксом -ешеньк- были распространены в устной традиции по всей территории России и использовались как в южных, так и в северных говорах. Они зафиксированы в пословицах, колыбельных песнях, сказках и бытовой речи, начиная с XVII–XVIII веков. В письменной литературе такие слова вошли благодаря поэтам-фольклористам и уже в XIX веке стали частью литературного стиля.
В XXI веке слово «белёшенька» практически не употребляется в живой разговорной речи. Оно сохранилось:
-
в народных песнях и обрядах, особенно в фольклорных коллективах;
-
в поэзии, стилизованной под народную;
-
в детской литературе (сказках, стишках), где требуется создать атмосферу мягкости и уюта.
Современное использование чаще всего ограничивается контекстами, где важно подчеркнуть архаичность, старинный стиль или особую поэтическую интонацию. В обыденной речи такие формы ушли, их заменяют простые прилагательные: вместо «белёшенькая земля» скажут «вся белая земля».

Сочельник
Слово «сочельник» в русском языке обозначает канун Рождества Христова — день перед праздником, 6 января по юлианскому календарю (24 декабря по григорианскому у католиков). Происхождение этого слова связано с особым обрядовым блюдом — сочивом (кашей из зёрен с мёдом и фруктами), которое готовили в этот вечер.
В произведениях Александра Сергеевича Пушкина слово «сочельник» упоминается в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833), в сцене, где описывается рождение царевны:
«Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь
Бог даёт царице дочь.»
— А. С. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 1833
Здесь пушкинская строка играет не только повествовательную роль, но и создаёт сакральный и праздничный подтекст: рождение царевны происходит именно в ночь на Рождество, в сочельник, что подчёркивает её особую судьбу, чистоту, связанность с христианской традицией. Пушкин осознанно использует слово из религиозного календаря, придавая сказке дополнительный культурный и духовный слой. Этот момент также перекликается с фольклорной традицией, в которой в сочельник ожидали чудес, знамений и особых событий.
У современников Пушкина слово «сочельник» встречалось преимущественно в бытовом и религиозном контексте. В литературе пушкинской эпохи оно чаще упоминается в духовной поэзии, народных рассказах и иногда в романах или повестях, где описывались русские традиции. Например, у Василия Жуковского в переводных балладах и в народных песнях, которые он записывал и обрабатывал, сочельник упоминается как время ожидания и таинственного предвосхищения Рождества.
Исторически слово «сочельник» связано с древней церковной традицией. От глагола сочить (то есть смачивать, добавлять масло или мёд) происходит название блюда сочиво (кутиа или кутья), которым заканчивали строгий рождественский пост. В старинных обычаях на сочельник:
-
запрещалось есть до появления первой звезды;
-
зажигали свечи и устраивали особую вечерю;
-
загадывали судьбу, пели духовные стихи и калядки.
Таким образом, «сочельник» был не просто вечером перед праздником, а важной частью рождественского цикла с глубоко укоренёнными религиозными и народными смыслами.
В XXI веке слово «сочельник» продолжает использоваться в религиозной и культурной традиции Русской православной церкви и широко известно в русском языке. Оно:
-
упоминается в календарях и СМИ в дни православных праздников;
-
встречается в художественной литературе, часто при описании быта дореволюционной России или в современной поэзии, связанной с темой Рождества;
-
сохраняется в разговорной речи среди верующих людей и тех, кто придерживается традиционного уклада.
В то же время в светской культуре слово стало звучать реже, особенно в молодёжной среде, где его могут заменять словами вроде «канун Рождества». Однако в официальных и литературных контекстах «сочельник» остаётся устойчивым и значимым термином, не утратившим своего смысла и культурной ценности.
Издалеча воротиться
Словосочетание «издалеча воротиться» — яркий пример того, как Александр Сергеевич Пушкин соединял народную лексику с литературной формой. В поэтическом и разговорном русском языке первой половины XIX века такие обороты воспринимались естественно, придавая речи плавность, мелодичность и оттенок фольклорной старины.
У Пушкина выражение «издалеча воротился» встречается в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833) в следующей строфе:
«Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
Воротился царь-отец.»
Здесь форма «издалеча» — архаичное наречие со значением «из далёкого места», а глагол «воротился» — старинный синоним «вернулся». Оборот «издалеча воротился» звучит у Пушкина особенно органично в контексте сказочного повествования, напоминая интонацию народных песен и былин. Через такие слова Пушкин добивался эффекта погружения в устную традицию, создавая не просто сюжет, но и особую поэтическую атмосферу, в которой слово работает не только как смысловой элемент, но и как звук, ритм, интонация.
Форма «издалеча» фиксируется в древнерусском и старославянском языке, а также в памятниках русской литературы XVIII–XIX веков. Её можно встретить в народных песнях, духовных стихах, былинах. Например: «Издалеча я иду, гостинец несу», «Издалеча воротившись, слёзы льёт девица». Такие конструкции подчеркивали не только расстояние, но и длительность ожидания, эмоциональную окраску возвращения.
Современники Пушкина — особенно Василий Жуковский, Николай Языков, Алексей Кольцов — активно использовали подобные слова и обороты в балладах и поэзии. У Жуковского можно встретить фразы вроде «Издалеча он прибыл», что придаёт тексту плавный, певучий ритм и архаический оттенок.
В разговорной речи конца XIX и начала XX века обороты типа «издалеча воротиться» постепенно выходили из употребления, уступая место более современным формам: «вернуться издалека», «приехать издалека». В XXI веке такие выражения практически не используются в повседневной речи, сохраняясь:
-
в стилизованной литературе,
-
в театральных постановках и кинофильмах по мотивам сказок и исторических произведений,
-
в поэзии и песнях, где требуется создать ощущение старины, народного языка.
Форма «воротиться» в живом русском языке осталась лишь в отдельных регионах как элемент деревенской разговорной традиции. В современной литературной норме употребляется нейтральное «вернуться».
Обедня
Слово «обедня» в русском языке обозначает православное богослужение — Божественную литургию, которая совершается в первую половину дня, преимущественно утром. Оно происходит от старославянского слова «обед» в смысле «середина дня» или «обеденное время», но в церковной практике издавна связано не с трапезой, а именно с литургией.
У Александра Сергеевича Пушкина это слово встречается в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833). В сцене возвращения царя домой после долгого отсутствия говорится:
«На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.»
Эта строка указывает, что смерть царицы произошла к началу или во время литургии, то есть утром. Для Пушкина подобная деталь не случайна: через слово «обедня» он вводит в сказку отсылку к христианской культуре и народному укладу жизни, где религиозные праздники и службы составляли естественный ритм дня и года.
Форма «обедня» фиксируется в литературных и бытовых текстах XVIII–XIX века, включая произведения пушкинской эпохи. У современников Пушкина — у Жуковского, Одоевского, Кольцова — слово «обедня» также употреблялось в поэзии, прозе и повседневных описаниях. Например, у Жуковского в некоторых духовных стихах и переводах:
-
«На обедне я стоял, за грехи свои молясь…»
Такой контекст был понятен каждому читателю того времени, особенно в провинциальной России, где утренняя служба и звуки колоколов задавали ход дня.
Исторически слово «обедня» вошло в русский язык через церковнославянский. Существовали две формы: «обедня» и «обедняя», обе признаны нормативными в литературном языке XIX века. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля слово объясняется как «служба божья, литургия». В народной жизни оно использовалось и как временной ориентир:
-
«Придём к обедне» = «Придём к полудню».
-
«После обедни» = «После утренней службы».
В разговорной речи и в литературе пушкинской эпохи слово «обедня» нередко встречалось в пословицах, народных песнях, обрядах. Оно также сохранилось в традиции упоминания «сочельника» и других церковных праздников, с которыми связано богослужение.
В XXI веке слово «обедня» продолжает использоваться, но уже в более узком контексте:
-
В церковной практике и внутри православной общины;
-
В художественной литературе, особенно при описании старинного быта;
-
В фольклорных текстах и песнях.
В светской речи сегодня чаще говорят «литургия», но именно слово «обедня» сохраняет свою эмоциональную, историческую и культурную окраску, напоминая о деревенском или усадебном укладе, который был естественным для пушкинской России.
Молодица
Слово «молодица» в русском языке обозначает молодую замужнюю женщину, особенно в крестьянской и народной среде. Эта лексема имеет древнерусские корни и восходит к слову «молодой». В отличие от слова «девица», которое обозначает незамужнюю девушку, «молодица» указывает именно на статус молодой жены, часто ещё без детей, но уже вступившей в семейную жизнь.
У Александра Сергеевича Пушкина слово «молодица» прямо используется в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833), когда описывается новая жена царя:
«Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.»
Здесь Пушкин подчёркивает двоякость образа: с одной стороны, новая жена царя — настоящая красавица, достойная называться царицей, с другой — у неё есть отрицательные черты характера. Важно, что он использует именно слово «молодица», а не более нейтральное «женщина» или «жена». Это слово создаёт фольклорный и народный оттенок, делает текст ближе к устной традиции, а также подчёркивает, что героиня ещё молода, полна сил и страстей.
Форма «молодица» активно использовалась в народных песнях, пословицах, обрядах, а также у поэтов пушкинской эпохи. У Василия Жуковского и Алексея Кольцова можно найти такие же употребления в балладах и песнях, особенно связанных с деревенской жизнью и описанием народного быта:
-
«Молодица у окна пряла, думу тужила...»
-
«Ох ты, молодица удаленькая, не стой у ворот...»
Такие строки показывают, что слово «молодица» в пушкинское время воспринималось естественно и широко было известно даже в высших слоях общества как часть народного стиля.
С исторической точки зрения, слово «молодица» фиксируется в древнерусских письменных памятниках и особенно активно употребляется в XVII–XIX веках. Оно отражало традиционное деление женщин по возрасту и семейному положению:
-
девица — незамужняя девушка;
-
молодица — молодая замужняя женщина;
-
баба — женщина в зрелом возрасте, особенно с детьми.
Такое деление сохранялось в крестьянской и купеческой среде, а в литературе стало использоваться для создания народного колорита.
В XXI веке слово «молодица» практически вышло из активного употребления в разговорной речи. Оно сохранилось:
-
в фольклоре и народных песнях;
-
в литературе, особенно в стилизациях под старину;
-
в исторических текстах, этнографических описаниях и словарях.
Современный читатель воспринимает «молодица» как архаизм или как элемент стилистики сказки, баллады, былины. В обыденной речи используется значительно реже, заменяясь словами «молодая женщина», «девушка», «жена».
Ломлива
Слово «ломлива» встречается у Александра Сергеевича Пушкина в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» (1833). Оно употребляется для характеристики новой жены царя:
«Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.»
В этом контексте слово «ломлива» описывает черту характера новой царицы: она капризна, излишне требовательна, легко выходит из себя. В старинной русской речи слово «ломливый» или «ломлива» имело значение «своенравный, упрямый, неуживчивый, склонный к резким поступкам». Иногда оно также могло означать человека, который быстро раздражается или капризничает без видимой причины.
Для пушкинского текста выбор именно этого слова не случаен: оно помогает автору коротко и выразительно передать характер героини, оставаясь при этом в рамках народного сказового стиля. Пушкин создаёт в «Сказке о мёртвой царевне» интонацию, близкую к народной речи, и такие слова, как «ломлива», усиливают это ощущение естественности и живости образов.
В литературе пушкинской эпохи слово «ломлива» и однокоренные формы встречались не так часто, но были известны в устной и фольклорной традиции, которую активно изучали и встраивали в художественный язык поэты и писатели XIX века. Особенно часто подобные слова фиксировались в народных песнях, пословицах и бытовых сказках. Например:
-
«Баба ломливая — в доме разоренье.»
-
«Ломлив, да не умен.»
Эти выражения показывают, что в крестьянской и купеческой среде слово имело вполне конкретный смысл: человека с трудным, несговорчивым характером, склонного к спорам и резким поступкам.
Исторически слово «ломливый» происходит от глагола «ломить» в его старинном значении — не только «разрушать физически», но и «ломать порядок, противоречить, выходить за рамки приличий». В старорусских текстах и в лексикографических источниках XVIII–XIX веков (включая «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля) слово «ломливый» описывается именно как:
-
своенравный, капризный;
-
склонный к буйству или несдержанности;
-
упрямый до резкости в поведении.
В XXI веке слово «ломлива» практически вышло из живого употребления и воспринимается как архаизм. В современном русском языке чаще используются синонимы: «капризная», «упрямая», «вспыльчивая», «несговорчивая». Однако в литературных текстах, особенно стилизованных под старину, в фольклорных стилизациях, театральных постановках и исторической прозе слово может встречаться для создания нужной интонации.