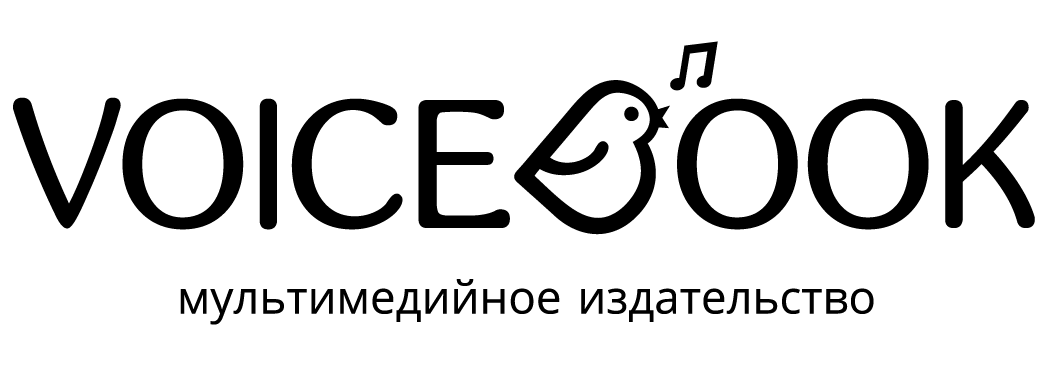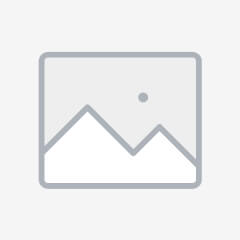Морщить море
Да вот веревкой хочу море морщить
В «Сказке о попе и работнике его Балде» выражение «морщить море» употреблено как гиперболическое преувеличение, свойственное народной сказке. Глагол морщить в данном случае означает «вызывать рябь, складки, волны на воде», а в более широком, переносном смысле — «волновать, беспокоить». В словаре языка Пушкина указывается, что такое употребление соотносимо с фольклорной традицией, где воздействие на море символизировало вмешательство в естественный порядок вещей, нарушение покоя.
Таким образом, когда Балда говорит о «морщении моря», он не только угрожает физически нарушить его гладь, но и выражает намерение потревожить, взволновать само стихическое равновесие, чтобы добиться от бесов выполнения условий договора.
В обиходном языке XIX века слово морщить чаще всего применялось в отношении лица, одежды, тканей. В XXI веке сочетание «морщить море» воспринимается исключительно как художественный или стилизованный оборот, сам глагол морщить сохранился в выражениях вроде «морщить лоб», где также чувствуется значение «волноваться, задумываться, проявлять беспокойство».
Корчить
Да вас, проклятое племя, корчить
Слово корчить в пушкинском тексте означает «сводить судорогами», «причинять телесные мучения». Такое значение отмечено как основное в словаре языка Пушкина и у Даля: «гнуть, сгибать кого-н., заставляя терпеть боль, мучения». Употребление этого слова придает угрозе Балды народный, живой оттенок.
В повседневной речи XIX века корчить встречалось и в более мягких значениях — «корчить рожу», «изгибать тело». В XXI веке слово сохранилось в выражениях вроде «корчить из себя умного», но основной смысл «сводить судорогой» почти полностью остался только в медицинских и историко-этнографических текстах.
Плотить
«Скажи, за что такая немилость?»
— «Как за что? Вы не плотите оброка»
Употребленное у Пушкина слово плотите — это архаичная форма от «платите». В словаре Даля подтверждается, что плотить в народной речи использовалось наряду с платить, особенно в крестьянской и купеческой среде. Это добавляет речи Балды фольклорный колорит.
Сегодня слово плотить полностью заменено в русском языке формой платить и встречается исключительно в исторических текстах или в фольклорных стилизациях.
Положенный срок
Не помните положенного срока;
Выражение «положенный срок» у Пушкина означает заранее установленное время для исполнения обязательства. В данном случае это срок уплаты оброка. В словаре языка Пушкина «положенный срок» отмечено как устойчивое сочетание официально-делового стиля, органично встроенное в сказочный текст.
В XIX веке подобные выражения активно употреблялись в юридических и хозяйственных документах. В XXI веке «положенный срок» продолжает использоваться в деловом и официальном русском языке, сохраняя то же значение.
Ужо
Вот ужо будет нам потеха
Слово ужо у Пушкина — это народная форма усилительной частицы уже, с оттенком угрозы или обещания. В словаре Даля указывается: «Ужо, арх. ужа, смол. ужу, ужо-ка, ужотко» как формы, усиливающие значение.
Употребление этого слова в сказке подчёркивает характерный для народной речи способ выражать решимость и предупреждение. В XXI веке слово ужо вышло из активного употребления и встречается преимущественно в фольклорных текстах и литературных стилизациях.
Потеха
Вот ужо будет нам потеха
В пушкинской сказке слово потеха используется в смысле «забава, развлечение», но с оттенком иронии и угрозы. Балда обещает бесам потеху в форме наказания за их непослушание. В словаре языка Пушкина потеха зафиксирована с этим значением, как и в словаре Даля.
В русском языке XIX века потеха была общеупотребительным словом, особенно в народной среде: «ярмарочная потеха», «деревенская потеха». В XXI веке слово сохранилось в литературной и разговорной речи, но воспринимается как стилистически окрашенное, книжное или фольклорное. В обиходе его заменяют словами «развлечение», «забава», «шутка».
Через такие слова, как «морщить море», «корчить», «плотить», «положенный срок», «ужо», «потеха», Пушкин в «Сказке о попе и работнике его Балде» создаёт текст, в котором органично сочетаются элементы народной речи и литературного языка XIX века. Эти слова не просто украшают текст: они несут историко-культурную память о быте, языке и мироощущении русского народа той эпохи. Сегодня многие из них вышли из живого употребления, но сохранились благодаря Пушкину и продолжают звучать в литературе как знаки народной традиции и живого слова.